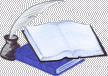 |
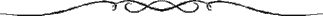
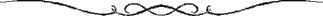
|
Романенко Александр Петрович
Родился 30 ноября 1940 г. на станции Седанка под Владивостоком. С 16 лет работал учеником токаря, затем токарем в Автотранспортной конторе г. Корсакова на Сахалине. В 1958 г. окончил вечернюю школу рабочей молодежи и поступил на физмат в ДВГУ. После окончания 4 курса ДВГУ в 1962 г. женился (первый брак распался, дочь Романенко Елена, 1962 г.р., живет с матерью в Магадане) и поступил на работу дозиметристом, затем инженером-физиком организации п/я 112 пос. Большой Камень (ныне завод "Звезда"), где через полгода тяжело заболел, работа была связана с радиацией, первый диагноз - "Острое лучевое поражение, лейкоз". Лечился в клиниках пос. Большекаменск, Владивостока, Москвы в 1963- 1967 гг. непрерывно, далее - эпизодически, с 1963 г. инвалид II-ой, с 1967 - I-ой группы пожизненно. После острой фазы болезни стал работать в Институтах ДВНЦ АН СССР (ТОИ -1968, ИБМ - 1968-1970, БПИ - 1970-1972 гг.), в 1970 г. завершил образование на вечернем отделении физмата ДВГУ по специальности "спектроскопия", женился вторично (жена Романенко Нина Григорьевна умерла в 1991 г., сын Максим, 1969 г. р. живет во Владивостоке). С 1989 г. работает редактором отдела физики, математики, техники научного журнала "Вестник ДВО РАН". Стихи и рассказы стал писать во время болезни, первые публикации в газете "Тихоокеанский комсомолец", журнале "Дальний восток". В 1972 г. был участником Краевого семинара молодых литераторов, в 1979 г.- VII Всесоюзного совещания молодых литераторов в Москве. Член Союза российский писателей с 1995 г., Русского РЕН-клуба Всемирной ассоциации писателей с 1998 г. Юрий Кабанков "...А чтобы ряды стоп не удлинялись до такой степени, что могли бы утомлять его внимание, разум поставил им предел (terminus), от которого они бы возвращались, и от этого самого назвал их стихами. ...Таким образом он произвел поэтов". Латинское versus (стих) происходит от глагола vertere (возвращать), отсюда - ставший почти что бранным среди стихотворцев термин "версификация", т.е. "стиходеяние". Однако сразу оговоримся: поэзия как таковая не знает границ и пределов, и уж тем более - "портов приписки". И ежели в самом деле существует такое понятие, как "приморская поэзия", то, полагаю, истоки ее следовало бы искать где-то в начале 7О-х годов уходящего столетия. Именно тогда "первичный бульон" версификации тяжело "добулькивал" своей густеющей массой, и на поверхности этого нового Соляриса явственно обозначились изгибы и контуры того, что мы и назовём впоследствии Поэзией Приморья. (Речь идёт именно о Поэзии, а не о стихослагании, которое существовало всегда, неся в себе возможность Поэзии как таковой). Можно было бы с увлечением (и благодарностью) перечислять имена, обозначившие появление этой Поэзии, они на слуху у её знатоков и любителей. Но - иных уж, к сожалению, нет (Геннадия Лысенко, Юрия Кашука), а те - далече (Илья Фаликов или, допустим, Игорь Кравченко). На мой взгляд именно те из "иных", которых уж нет с нами, в неоценимой мере определили тональность поэтического мироощущения "на краю географии" - и читательского, и, конечно же, "пробующих перо". Среди, слава Богу, ныне живущих среди нас - Александр Романенко, "последний из могикан", имя которого плотно стоит в ряду с именами "ушедших" - Г.Лысенко, Ю.Кашука (и - хабаровчанина Виктора Еращенко, который - кстати напомнить - весьма скрупулёзно и внимающе, рецензировал в свое время книгу Романенко "Третья степень свободы"). Хотел сказать: "Господь забирает лучших", но - дай Бог здоровья и "многая лета" Александру Петровичу. Ибо Господь уже призывал его к Себе - много ранее, но судьбе было угодно оставить его среди нас, живущих. 0 том, что случилось с ним, молодым тогда физиком, рельефно и ёмко поведано Александром Романенко в его художественной прозе, которую, кстати сказать, весьма высоко оценил "живой классик" отечественной фантастики Аркадий Стругацкий. Вот - один лишь абзац: "...А тут еще сирена - забыли отключить - довывает противно, и её леденящие звуки слились в его мозгу с давними, когда-то потрясшими его образами: весёлый Анри Беккерель носил в кармане ампулу с источником, а потом обнаружили язву на коже; нищие Пьер и Мария Кюри работали в дырявом сарае, потому и спаслись - газ радон улетучивался. И зловещий гриб над Хиросимой, и тройка имён - Ган, Штрассман, Лиза Мейтнер - всё это слилось с завывающими звуками... Да вспомнились слова Роберта Оппенгеймера после испытания первой атомной бомбы: "Мы сделали работу за дьявола!" Потом к этому чувству нереальной, призрачной опасности прибавилась ещё страшная, смертельная слабость да неожиданные длительные кровотечения - кровь текла алой струйкой из носа и оставалась на снегу, и никак её нельзя было унять, а он всё бегал на завод и получал, получал небольшие, но уже добиваюцие его дозы..." (Саше Романенко было тогда двадцать три года, столько же оставалось до Чернобыля...) В стихах всё это - опосредованно - отразилось много позже (а тогда он не ведал, что обладает даром стиходеяния), отразилось, подернутое, как дымкой, горьковатой самоиронией: Разработан нереальный план успеха - Или - в стихотворении "Маньяки" (для которых научный эксперимент всегда важнее живо-трепещущей жизни, и к коим в свое время имел честь - по "роду занятий" - принадлежать и сам Александр Петрович): Времени рентгеновский пучок Поэзия спасла его, подхватила на крыло, и он выжил, "несмотря ни на что", и теперь - поныне (несмотря на "почтенный" для поэта возраст) - он в долгу перед нею, Поэзией, и покуда не оплатит сполна этот долг - никуда от нас не денется, будет жить среди нас, - ибо Господу так было угодно. Три поэтические книги Александра Романенко, вышедшие в промежутке десятилетия 80-90 гг. в Дальневосточном книжном издательстве ("Седанские ясени", "Дар равновесия" и упомянутая уже "Третья степень свободы") ещё дожидаются, как у нас повелось, своего часа и осмысления. То, что поэзия Романенко стоит как бы особняком даже в уже упомянутом выше ряду, - с этим спорить не приходится, Оно, конечно, "не можно впрячь в одну телегу коня и трепетную лань". Но поэт тем и отличается от стелющего соломку стихослагателя, что, не взирая на окружающие страхи, стремится к невозможному: Дар равновесья - странное наитье Попробуйте соединить несоединимое: например, натурфилософию позднего Заболоцкого (или "поэтический рационализм" Ю.Кашука) с деревенской непосредственностью "поэтики" Николая Тряпкина (или - того же Г.Лысенко) - ничего у вас не получится. А Романенко "работает" свою Поэзию именно на этой грани: Мне Бог сказал: "В начале было Слово". Но то, что "Слово было у Бога, и Слово было Бог", что "всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть" (Ин. 1.1-3), - осмыслено будет много позже. Покуда же - "странное наитье" задаёт свои наивные вопросы, живьем сгорая от любопытства: Это жизнь или игра?! Умудренная Новелла Матвеева в одной из своих "наивных" песенок не случайно обмолвилась: "Ах, вопросы нам жить не мешают, ответы - мешают!". Пушкинский вопрос о счастье остаётся (к счастью!) вечно открытым. Ведь "счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь - надулось, а вытащишь - ничего нету". Холодный дом. Окраина села. Пушкинская метель, вольно перепутывая нити судеб, с воем врывается в "эру технозоя", в которой - по заданной программе - не место стихиям и случайностям. Мышление физика и философа преломляется, "как в капле воды", в некоей хрустальной "сфере Паскаля" (центр которой находится всюду, а окружность - нигде). Эта "умопостигаемая" сфера не есть ли - в данной ситуации - сфера самоей Поэзии, дающая ослепительную возможность воспринимать мир целиком и сразу, не оглядываясь на трассирующую дискретность научного знания? Такое - целостное - мировосприятие есть "дар Божий, стяжеваемый, однако, трудами не над одним лишь исследованием истины, а более над сердечным и жизненным усвоением ея, - говорит святитель Феофан Затворник, - :тут и власть слова над душами. Книжникам, говорящим и пишущим от научности, не даётся такая сила, потому что они говорят от головы и в головы пересыпают своё умствование. В голове же нет жизни, а только верхушка ея. Жизнь - в сердце, и только исходящее из сердца может воздействовать на токи жизни." Так и здесь - Нет оснований, предлога, причины Когда-то (в год выхода первой книги А.Романенко) в моём "безоглядном" стихотворчестве промелькнула довольно странная (на взгляд редактора) строчка: "Солоным-солона золотистая лимфа густого Японского моря...". Через двадцать лет Саша Романенко объяснил мне, что с "научной точки зрения" химический состав крови и морской воды схожи. Это "море с привкусом крови" подчас "разъедает" своей солью всю, в общем-то жизнеутверждающую, поэтику Романенко ("Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям", Мф.5.13). День прошел. Над Седанкой кружил вертолёт - Однако покуда - слава Богу! - "нам не даёт Земля упасть в пространство выгнутое неба...", и Александр Петрович, запрокинув голову, объясняет: Обыкновенное облако это В том-то и дело, что кузнечик знает, а мы не знаем (и, видимо, не должны знать - покуда не пройдем до конца отмерянный нам земной путь). Ибо, "до зубов вооруженные" знанием, "видим все как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, когда же наступит совершенство, то увидим мы всё лицом к лицу:" (I Кор. 13, 12). А покуда, как сказал любимый поэт Саши Романенко Арсений Тарковский, - "Земле -земное": Мягким крылышком воробьиным Ведь "если и есть счастье, так в том, чтоб лежать поздней осенью на мокрой земле, смотреть в небо сквозь голые ветки и изо всех сил стараться не плакать". Потенциальная энергия этих растянутых, как тугая пружина, строк в любой момент готова "кинетически" взорваться - чтобы сжаться в упругое пятистишье, весьма схожее с японским "танка". ("Смотрю на восток, не мигая, - я солнцу вставать помогаю...") Такая стремительная метаморфоза необходимо предполагает "метанойю" - преображение духовное, сколь болезненное, столь и целительное: Сяду, колени прижав к подбородку, В такой момент зрение человека обретает выпуклость и стереоскопичность зрения насекомого, недоступные осуетившемуся человеческому взору: Под давленьем осеннего света В такой момент слова как бы растворяются, становятся прозрачными, оставляя читателю скрывающееся за словами явление как оно есть (что, собственно, и есть признак истинной Поэзии). "Тем более - слова. Они скрывают лики. Их произносят, а они молчат", - сказано у Александра Романенко. Но - более того: апостол Павел озадачивает прямолинейный житейский ум таким (в общем-то не удивительным для поэта) парадоксом: "Если кто из вас думает, что умён по канонам этого мира, то должен стать он "глупым", чтобы сделаться воистину мудрым" (1.Кор. 3.18). Ибо - сказано у Иова - "Бог уловляет мудрецов их же лукавством" (5.13). Потому те, кто нешутя мнит, что им "явились источники вод и открылись основания вселенной" (Пс.17.16), - в лучшем случае (на первых порах) остаются в дураках. Романенко прекрасно знает об этом и потому "осторожничает", не спеша выплёскивать в мир то, что примстилось его знанию: Я заглянуть хотел за край Вселенной Лев Шестов, едва ли не первым из философов пришпиливший к белому листу ночную бабочку экзистенции, отчаянно (хотя и весьма рационально) сомневающийся во всемогуществе человеческого разума, настаивает на том, что "только человек, затерявшийся в вечности и предоставленный самому себе и своему безмерному отчаянию, способен направить свой взор к последней истине". Не отсюда ли "в минуту отчаяния" (так называется триптих, отмеченный 1972-м годом) у Романенко прорывается такое совсем уж не "научное" призывание: Успокой меня, Господи Боже! "Я был нем и безгласен, - говорит псалмопевец, - и молчал даже о добром; и скорбь моя подвиглась" (Пс. 38.3). Гордый ум человеческий, как уж повелось со времён адамова грехопадения, изо всех сил сопротивляется наличию в мире - хотя б идеи! - Творца, ведущей в конце концов: ...к той неведомой опоре всех опор, Время как подвижный образ вечности - подобно мифическому быку с налившимися кровью глазами - "легко проносится сквозь нашу плоть повинную", унося с собою все тленное, что не сгодится в "жизни будущего века". Более того:":если жилище наше земное разрушено - есть у нас обиталище от Бога на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Ибо, находясь в доме земном, отягощены мы заботами и стенаем, желая совлечь с себя нынешний покров и облечься в новый, дабы жизнь вечная поглотила все смертное" (2 Кор., 5.1,4). Словно пес, изготовившись к вою, Видимая трагичность этого стихотворения ("Бессмертие") слава Богу не беспросветна. Ведь еще Блаженный Августин считал, что "человек никогда не находится в жизни, поскольку он пребывает в этом теле, которое скорее умирает, чем живёт". ("Я каждый день умираю", - назидает апостол Павел коринфян. I. 15.3). Но тот же Бл. Августин почему-то упускал из поля зрения своей мысли тот факт, что умирание - процесс творческий, что встречный поток времени несёт в себе (из будущего) Божественный смысл и возможность духовной наполненности нашего "скудельного сосуда": "Разве не знаете, что вы - храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?", - говорит апостол Павел (1 Кор. 3. 16); "Послушайте, я скажу вам тайную истину: мы все не умрём, но все мы преобразимся, в один момент, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба" (I Кор. 15. 51-52). Истинная трагичность заключается в ясном осознании умирания не только собственного тела, но и "тела вселенной": эсхатологичность пронзает сознание поэта куда болезненнее житейского временного потока: Я слышу шум дождя и шорох электронов, Пророческая дальнозоркость отчуждает поэта от мира; спасительная для многих центробежность мирской суеты разрывает его сердце, и лишь Слово спасает его в этом "сквозном сиротстве одиночества", когда ...косноязычный лепет, На этом "уровне" вполне уместно приостановить наше невольное погружение в глубины "умопостигаемой сферы" Александра Романенко - поэта, прозаика, философа, члена Союза российских писателей, члена Русского Пен-центра Всемирной Ассоциации писателей (и прочая, и прочая), который в любой день своего дальнейшего многолетия мог бы афористично заявить: Под напряжением лучше мне корчиться, А мы со своей стороны заметим (устами Сократа из платоновской Апологии), что "с хорошим человеком не может произойти ничего дурного ни при его жизни, ни после его смерти (ежели по-христиански понимать "Слава Богу за все!") и что боги никогда его не оставляют". Ну а нам-то и сам Бог велел! Стихотворение "Свиристит ночная тишина..." | |