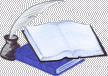 |
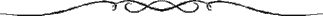
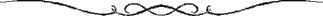
|
Князев Лев Николаевич Дочь атаманаРассказ"А теперь пребывают сии три: Был светлый день 18 апреля 1946 года от Рождества Христова, к гладкие волны Цусимского пролива сияли, многократно отражая солнечные лучи, и желтые блики весело плясали на шершавых, железно-бесчувственных бортах парохода, небыстро скользящего в теплой стихии с юга на север. Мир и покои властвовали во Вселенной, белые чайки неспешно взмахивали крыльями и негромко перекликались, любуясь сверху извечной красотой отданного им мира Лиза Семенова стояла, опершись о нагретый фальш-борт и задумчиво глядела то на легкие перистые облачка, неподвижно застывшие в тишине неба, то на уходящую из-под кормы курчавую пенную струю, то на встающие справа, в дымке горизонта, сиреневые холмы японского берега. Небольшая чайка с черными кончиками крыльев, пролетая низко у бота, вскрикнула призывно, и, подняв глаза, Лиза встретила ответный взгляд чистых желтых глаз вольной птицы. Махнула рукой. "Лети, миленькая!" Вскрикнув, чайка упала наискосок к самой воде и снова взмыла, не доступная злу и угрозам людей. - Привет, красотулечка-казачка, - чуть подвинься, - весело окликнул Лизу матрос, парень лет двадцати, спустившийся на палубу со спардека с мотком тонкого линя в руке и закрепленным на конце железным штоком. Лиза всего на секунду встретилась с легким взглядом серых глаз, смутилась и шагнула в сторону. Тут же ее охладил гнусаво-повелительный голос такого же молодого, как матрос, но ненавистного ей от бровей до носков начищенных кирзовых сапог охранника с автоматом. - Мадам, вас отправить в трюм? - Нет, нет, если можно, - испугалась Лиза. - Лады. Стой, позволяю, только без топотни и танцулек. - Охранник выплюнул за борт осмолок сигареты и принялся за свою работу ходить от борта к комингсу трюма и обратно. Матрос - такой расторопный парнишка уже успел вытащить из мерительной трубки в палубе линь со штоком на конце, завернул бронзовою пробку и записал что-то на листочке бумаги. Он подмигнул Лизе и зашагал к носу парохода, на пути бросив охранник: - А вот плевать за борт не положено, здесь тебе не зона, любимый ты наш. - Охранник крикнул вслед: - Все мы такие герои, ах, ах, не пришлось бы свидеться! "Зачем он, дурачок, лезет на рожна", - печально подумала Лиза, потянувшись вслед парнишке. В свои неполных шестнадцать лет она была крепкая, развитая, и мечты о таком вот самом, не лучше и не хуже, не раз уже посещали ее в самое неподходящее время... А трудно было подобрать более не подходящее время, чем этот апрельский день. Хотя сегодня и среда "Господи, что же ТАМ будет", - вдруг остро подумала она заболевшим сердцем. На крыле мостика, недавно покрашенного, блестящего под солнечными лучами, видела Лиза, стоял начальник конвоя - худой, черный, с мешками под глазами, фамилию свою он назвал, принимая заключенных, то ли Плиняцкий, то ли, тьфу... А рядом с ним переминался с ноги на ногу пожилой капитан парохода, симпатичный дедушка лет под пятьдесят, в красивой морской фуражке. Лиза с самого детства знала о моряках только хорошее. Невельской, Крузенштерн, адмирал Ушаков, адмирал Колчак... Папа рассказывал, как спасли моряки остатки белой гвардии, откатившейся от Владивостока под неодолимой силой наступавшей из глубин Сибири Красной армии. В тот страшный год ни Лизы, ни двух сестренок ее и брата еще не было на свете - родились они в чужой далекой стороне. Только по маминым рассказам знали, что есть великая страна, родина мамы, папы, бабушек и дедушек. В этом краю чистые, как слеза, не отравленные реки и прозрачное, до дна, родное папино озеро Байкал, густая тайга, полная золота и драгоценностей земля и добрый, сильный, христолюбивый народ, который однажды разделился по дьявольскому наущению на красных и белых, уничтожил в братоубийственной войне на утеху иностранным бесам лучших своих сыновей и дочерей, уменьшился в числе, исподличался и перестал верить в Бога. А те, кто поднял его на бой, засели в святом московском Кремле, взорвали по России православные храмы и пошли гулять-пировать о сатанинской раже. И теперь только Бог знает, вернет ли он России прежнюю силу и красоту... "Но откуда этот сероглазый узнал, что я казачка?" - думала Лиза, глядя печально на гордых, свободных птиц, летящих над пароходом, на землю вдали и на живой, поворачивающийся по кругу, пепельно-серый горизонт. Из табучины носового трюма показался невысокий желтолицый человек. Охранник кивнул ему на деревянный туалет, устроенный на фальшборте для подконвойных. - Быстро, не задумывайся. - Оглянулся на Лизу. - Гляди, какой он покорный, а сам - контрразведчик. Знаешь, что они над пленными вытворяли? Лиза отвернулась. И тут же сзади, заставив ее вздрогнуть, заорал охранник: "Стой. косоглазый!" Простучала оглушительная в благостной тишине утра автоматная очередь В воздух. По тому что Лиза успела увидеть, как японец кошкой переметнулся через борт, нырнул и снова показалась в струе за кормой его голова - черно-желтая в белом кружеве пены. С мостика крикнул офицер конвоя: - Нечипоренко, отставить стрельбу! Незачем патроны жечь, еще пригодятся. - Не понял, товарищ старший лейтенант, - гнусаво откликнулся Нечипоренко. - А понимать нечего. - Офицер спросил у капитана. - Сколько здесь до берега? - Двенадцать-пятнадцать миль, не переживайте не доплывет. - Капитан, не глядя на начальника конвоя, шагнул в рубку. - Третий, этот эпизод запишите в графу "Особые случаи". Я - в каюту. Конвойный солдат показал Лизе великолепные клыки. - Можешь полюбоваться, мадам. Уже затонул падлюка! Да, по совести сказать, хоть я и бил в воздух, а его мог и задеть нечаянно. Чтоб не маялся, сердешний. Во Владивостоке пароход "Аргунь" с пленниками поставили на причал напротив центрального входа в порт, за ними тянулась мощеная улица и красивые, старинные дома. Высокие сопки, звенящие трамваи, толпа на улицах, кругом красные транспоранты и флаги. Лиза знала что здесь скоро праздник под названием Первомай. Моряки только что закончили швартовку, собрались на правом борту спардека, наблюдая, как выгружают доставленных из Дайрена важных пассажиров - семью атамана Семенова и нескольких пленных японцев. Первый из трюма поднялся высокой, сутулый, седой человек лет пятидесяти, на деревяшке от колена правой ноги, в песочного цвета генеральской шинели без погон и фуражки, с поднятой по казачьему обычаю тульей, брат атамана Семенова. Самого Семенова, арестованного русским десантом на его даче под Дайреном, советские разведчики отправили в Россию на самолете, а брата и девушек посадили на пароход. Лизу и ее семнадцатилетнюю сестренку Катю вывели следом за дядей. Они остановились на минуту, потрясенные видом города, а дядя ковылял, стуча протезом и не поднимая глаз на город, хотя когда-то считал его чуть ли не родным. По парадному трапу, качающемуся на цепях-подвесках, арестованные спустились на бетонный причал. Что-то словно толкнуло Лизу, заставило оглянуться - она увидела ЕГО. Он поднял руку. Неужели заметил, как я в тот раз на него смотрела? Она ответила прощальным взмахом, прошептала: "Господи, уходим без возврата, спаси к помилуй нас!" - А ну, не сигналить, казачки хреновы! - крикнул конвойный. Два длинных, сверкающих черным лаком "Зима" ждали Семеновых у трапа. Дядю отделили от племянниц. Он, битый-перебитый жизнью, давно понял: навсегда. Здесь не прощают. Как, впрочем не прощал ИХ и он... Оглянулся, сдерживая пронизанный ненавистью стон. - Деточки, милые, родные простите папу и меня, поминайте, если будите живы. - И, подтолкнутый прикладом автомата, стукнувшись протезом о порог машины, нырнул в салон. Так девушки и встретились с родиной, о которой столько мечтали и шептались, строя свои детские планы. Отца судили в Хабаровске и повесили, брата расстреляли раньше его. Сестер определили в ГУЛАГ, определили по "четвертаку", то есть по двадцать пять лет заключения. Чтобы знали, как выбирать родителей. Надолго ушли сестры за колючку. В самой глубине Сибири увидели Лиза и Катя и быстрые чистые реки, и дремучие леса. Старшая сестра их, Елена Григорьевна, тоже отбывала свой "четвертак" в ГУЛАГе, однажды бросилась на лагерную проволоку и с вышки получила пулю в живот. Но выжила, а выжив попала в психлечебницу, не выдержала душа, измаялась и ушла под защиту безумия. И Лиза едва ли бы выдержала, но после восьми лет заключения, когда уже не осталось ни надежд на свободу, ни желания жить, разнеслась над лагерями разящая, как молния, и освежающая, как гроза, весть: "УМЕР!" - Ур-ра! Свобода! - кричали в зонах политзеки, бросая вверех шапки и телогрейки. Не сразу, однако, и нелегко уходят оттуда, куда попадают так невыносимо легко. Уже многих отпустила зона, а Лиза все еще была там, в Тайшете. Уже и расконвоированная, уже и позволили учавствовать в КВЧ - культурно-воспитательной части (ай, да агитатор!). Пела на лагерных сценах старинные русские романсы и казачьи песни, которым научилась у отца. Как и выдержке, умению не дрожать от страха при смертельной опасности, не выть от холода-голода. Казачья дочка, что да, то да. В одном из лагерей (а было их натыкано по Руси гуще леса), выступая, увидела, как смотрят из зала, вперились в самую душу пронзительные серые глаза. Неужели он, морячок ее юности? Не успела подойти, спросить - увезли артистов. Пора было к раздаткам - ужинать. Через месяц напросилась у Миши Нуйкина, главного режиссера: "Пошли еще раз туда". И вот она снова поет казачью песню, а потом: "Ой, вы ночи, матросские ночи"... И ОН в первом ряду! Нет, увы, не тот. Не он. И глаза не совсем серые, но глянул - душу берет, и уже Лизе не двадцать три, а шестнадцать, и снова тот апрельский день на пароходе... "Господи, помилуй меня, грешную..." Слава тебе, господи, не из робких мальчик, подошел в перерыве, пригладил короткую прическу (всего-то два месяца после стрижки "под ноль"). - Можно сказать огромное спасибо? Меня зовут Коля. Уже Лизе уезжать пора, а они стоят, укрывшись за каким-то стендом, прилипли друг к другу душами и сердцем, ну нет сил оторваться. Заглянул Миша Нуйкин, усмехнулся, махнул рукой - "еще пятнадцать минут даю!" И на том спасибо. Рассказал Коля, что, точно, плавал, только рыбак, на море с шестнадцати лет, после вместе с другом поехали учиться на штурманов, друг не осилил экзамена но математике, зато стал художником, а Коля - закончил, был штурманом, плавал, потом - армия, потом... Вот это дело. - Да за что же, дорогой ты мой? Махнул рукой, рассмеялся. - За того, кто недавно ткнулся. Стою как-то в наряде, размечтался. И про деда репрессированного, про батю, парни еще про своих порассказывали, вернулся я, а в караулке висит портрет - я по нему и шандарахнул всю обойму. - Раз не можно так, дурачок? Им же, чем больше осудят, тем легче коммунизм строить - деньги-то не платить, довольно и пайки. - А кто сказал, что можно? Дали вышку - после заменили на четвертную, теперь собираются реабилитировать. Смех да и только. - Да уж, смех так смех. - И рассказала про своего папу-атамана, про то, как шли Цусимой... Кое о чем смолчала, да и о чем говорить - шестнадцать лет - дурочка. И тут же, поцеловавшись, всего-то раз за время знакомства, дали друг другу клятву: кто первый выйдет - другого ждать... Коля вышел реабилитированным по раньше, но Лизу дождался. И поженились. И родили детей. И один из них талантливый музыкант - женился на иностранке, австралийке. Прислал приглашение: приезжайте мама-папа, здесь народ живет без коммунистов, и, представьте себе, очень даже неплохо. Поехали к сыну. И остались потомки атамана в далекой Австралии. ЭПИЛОГ Автор этого рассказа был матросом на том самом пароходе и видел в апреле 1946 года своих пассажиров - дочерей атамана и их дядю. И японца, предпочевшего смерть в родной Цусиме русскому плену. Прошло ровно шестнадцать лет, и вот автор встретил художника Евгения Димуру, тоже имевшего отношение к этой истории. Ибо он плавал с Колей Явцевым, штурманом, женившемся на дочери атамана. А потом - потом поехал с выставкой своих морских картин в Австралию и встретился там с героями этой не совсем обычной истории. Живут-поживают в Австралии, много повидавшие на своем веку, русские люди. Скучают по родине, но приехать больше не рискнут. "Перетерпим", - пишет Коля Явцев, муж атаманской дочери Елизаветы Григорьевны. А она - тоскует. Такова уж, видно, казачья душа, любят казаки Россию, зачтем им это. | |