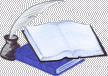 |
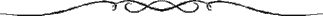
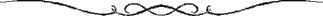
|
Матюшин Михаил Ильич СнегирьРассказУ зайца очень сильные ноги. Вынимать его из петли надо осторожно, не то ударит - света невзвидишь! Это хорошо знал Никифор: ружьем сначала перевернул косого, а потом уже пощупал. "Видать, с вечера в петлю угодил, закоченеть успел",- подумал он и, прицепив тушку к поясу, направился к заиндевевшему ивняку, на речку взглянуть - небось, все еще не замерзла, будь она неладна. Этак не скоро домой попадешь. Неглубокий снег прикрыл ожеледь, лыжи то и дело разъезжались, норовя угодить в буерак или за корень зацепиться. Оглянешься: черте что, будто не на лыжах идешь, а на животе ползешь, наподобие выдры какой-нибудь. Натруженные ноги слушались плохо. "Аж в коленях зудит",- морщился Никифор, жалея о том, что надумал лыжи обкатать. Можно бы снять их, да ремни, как на грех, затянул перед выходом с зимовья так, что зубами развязывай. Нет, не нравилась леснику нонешняя зима, впервой выдалась такая непутевая: то весной прикинется, хоть сей, то осенью обернется. Верба два раза обманывалась, а заяц-беляк - тот совсем в недоумение пришел: вырядился в белую одежду, выскочил и обмер - негде спрятаться, черным-черно. Теперь вот ожеледь под снегом, тоже не разбежишься. "Срамота!" - выругался Никифор, взглянув из-под рукавицы на темневшую в белых берегах излучину. Попробуй сунься через нее такую! И ведь зимник почти укатали, за веточным кормом нацелились, а теперь ни в санях, ни в лодке. О том, чтобы перебраться на другой берег, нечего было и думать: от одного погляда скулы свело, где уж тут, обратно в зимовье идти надо. И хотя ничего не оставалось, Никифор еще потоптался немного, прежде чем двинуться по своему следу. В лесную избушку возвращаться не хотелось. Теперь бы в теплой горенке посидеть, передачу какую ни на есть послушать-посмотреть в телевизоре. Угораздило же черта старого в ату пору участок осматривать, из деревни уйти, а там небось дочка с мужем из города прилетели, чаи гоняют, а может, что и понаваристее. Внучок, само собой, норовит плюшевому зайцу ухо оторвать. Опять же, кто знал, что ростепель случится? Мог бы почувствовать: не первый год в Приморье живешь, ноги не хуже того барометра, который у председателя колхоза в конторке на стенке висит. Так, разговаривая сам с собой, Никифор незаметно свернул, в ложбинку - снег здесь был поглубже, лыжи не разъезжались и мало-помалу вернулось хорошее настроение. Мол, незадача такая произошла, чем плохо в лесной избушке? Ежели печурку как с дует расшуровать, то не хуже твоего курорта-санатория, лежи посасывай трубку и жизнь критикуй. Скажем, взять тот же корм веточный. Леснику от него одна морока: ведь дай волю тому же Ивану Алексеевичу, колхозному председателю, весь лес изведет, все деревья под корень скотине стравит. А что?! Техника! Пустит в какую-нибудь лущилку, в труху изотрет и скормит. Ему б, черту полосатому, силоса запасти он, паршивец, старое, какой давности, время вспомнил, вздумал коров опилками кормить. Того и гляди вместо молока денатуратом доиться будут! А то вот еще лес самый первосортный японцу возим в обмен на деревянные рубашки. Они, эти самые рубахи, хрустят, как жестянка, и воздух не пропускают. Или у нас лен перестал расти? Вот у меня рубаха так рубаха, после стирки приятнее делается - и телу хорошо, дышит через нее тело, а не потеет. Прямо зла не хватает на такую нашу бесхозяйственность. Лес это государственное богатство, а мы его направо и налево. Похрустывает припорошенный снегом мерзлый лист под лыжами, усмехается Никифор, кому-то ехидненько подмигивает. В прошлый раз он этим денатуратом до белого каления довел председателя: тот аж дверью хлопнул и убежал. Неделю не заходил, потом ничего - встретились, помирились. И то сказать, не со зла ведь допекал лесник председателя, очень уж ему больно было смотреть на изголодавшуюся скотину. Кончился дубняк, пошла чащоба из разнодеревицы, и Никифор поспешил выбраться на просеку. Тоже непорядок: начали рубить, потом попустились, забросили... Стал держаться обочины, боясь на пень наскочить. Однако что это? Никак на собственный след набрел. Не похоже бы: орешник слева остался, да и след со стороны низовья вывернулся, словно бы мешок проволокли. Совсем недавно - тронул голой рукой, убедился - перед самым, можно сказать, носом прополз кто-то. Теряясь в догадках, двинулся Никифор по следу, на всякий случай двустволку снял. В тайге может приключиться любое, смотри в оба, зри - в три. В прошлый раз вот так же на браконьера наткнулся, чуть не пристрелил его сгоряча: зюбриху, подлец, сгубил. Странный след неожиданно свернул в чащобу. "Не иначе браконьер. Скрыться норовит!" - заторопился Никифор, про осторожность забыл: угодилтаки носком под корень, сломал лыжу. С досады выругался, начал было ремни распутывать. Застыла сыромять, не поддается - полоснул ножом и чуть не бегом по след. Давно так не бегал Никифор, даже под ложечкой засосало. Остановился передохнуть, глянул на тушку зайца, глаза выпучил: всю как есть ободрало сучьями, наподобие бересты свернулась рваная шкурка. -Эк его очистило, - пробормотал Никифор, - этак и сам нагишом в зимовье придешь. Потом след снова вывел на просеку, к знакомому ильмаку от которого до зимовья, если напрямки, километра три, не больше. Вот только след совсем чудным сделался. Час от часу не легче! Никак человек босиком прошел? Ступня-пятка глубоко вдавилась, еще ступня. Не по себе стало Никифору, особенно когда отпечаток руки на пеньке заметил, видно, оперся кто-то, чтобы не упасть. Идет, запинается, будто пьяный. Опять же откуда ему взяться здесь? Остановился Никифор, посмотрел вправо - ничего не увидел, глянул влево - обмер. Совсем рядом, у колодины, уткнувшись головой в снег, лежал человек. Его фиолетовая рука сжимала сук: падая, хотел удержаться, но сук обломился. На ногах рвань, одна нога неловко подвернулась - пятки желтеют. Слишком несуразно, до нелепости просто открылась тайна странного следа. Подбежал к человеку и начал трясти его. Перевернул на спину, приник ухом - ничего не услышал, снова принялся трясти, разминать податливое тело. Совсем отчаялся Никифор, с отчаянья, видно, и о том, как пьяных в чувство приводят, вспомнил: уши, уши ему растереть надо!.. Человек неожиданно открыл глаза, сказал внятно: - Сука. - Живой, мать честная, живой! - не своим голосом заорал Никифор, подхватил найденыша под мышки, привалил к дереву: и торопливо начал разуваться, бормоча в каком-то ликующем исступлении: - Эк тебя угораздило, за каким лешим в тайгу-то босиком? Не слышал тот у дерева. Безвольно уронив голову на грудь, он спал мертвым сном. Или умирал во сне, что было одно и то же. Его лицо было неподвижным и строгим, даже немного недовольным, как у сильно уставшего человека, которому не дают спокойно спать, докучают назойливые собеседники. Если бы Никифор был художником, он на всю жизнь запомнил бы выражение этого лица. И кто знает, когда-нибудь, в пору высокого вдохновения, стремясь передать неотвратимость сна, он, быть может, изобразил бы именно это лицо. Никифор не был художником. Оставшись в одних шерстяных носках, он поежился - холодом охватило ступни - и, надрезав; голенища валенок, начал обувать найденыша, ругательски ругаясь: черт, мол, мороженый, подскакивай теперь из-за тебя навроде глухаря на току! Обул все-таки, с трудом, как мешок с мукой, взвалил на плечи безжизненное тело, даже крякнул при этом и пошел, проваливаясь в снег. Вот так попал Снегирь в избушку лесника Никифора. Уже пятый день лежит он возле печки и смотрит в серый от копоти потолок. Руки и ноги у него забинтованы, мозжат, ноют. Ноет сердце, болит. Думает Снегирь, перебирает в памяти свою жизнь постылую, лишь временами забываясь в коротком тревожном сне, и тогда чудится ему Филька Шалый. Они заблудились в тайге, их было четверо, бежавших из заключения. Впереди шел Филька, а за ним - двое бесцветных, последним брел Снегирь. Ему было душно, подгибались ноги. Временами он опускался на четвереньки, потом на колени: мутилось в глазах, мелькали темные мушки. Гудело в ушах, - гудели; приглушенные голоса. - Опять снег роет, чего с ним делать? - Ждать,- слышится голос Шалого. "Хороший корефан Филька". Потом падал снег, падал Снегирь. Поднимался и снова падал. Однажды свалился навзничь, увидел звезды и так с открытыми глазами лежал долго. Одна звезда, самая большая, вдруг сорвалась и полетела вниз,- дернулся Снегирь в сторону - раздавит!.. Нет, не звезда - варначий глаз закрыл небо, сказал сипло: - Спишь? - Спит, чего там, теперь недолго. - Пошли тогда. - Взять бы: жалко. "Жалко. Меня, вишь, ему жалко",- блаженно подумал Снегирь, хотел обнять друга сердечного: - Филя, свой в доску, Филька. И вдруг будто ударило в голову: "Разули!" Рванулся Снегирь, уперся руками - сел. Увидел свои ноги в рваных носках, в снегу. Скрипит зубами Снегирь, тянется к улыбчивой роже, хочется ему приголубить дружка, так приголубить, чтобы жилы у него на висках взбухли... Связаны руки, недвижны пальцы: никак не захватишь кадыкастого горла. Мечется на лежанке Снегирь, бьет руками по чем попало - устал держать его Никифор, связал; изуродует себя малый, а ему покой нужен. - Развяжи, развяжи,- жалобно просит Снегирь, блуждая ранеными глазами, орет благим матом.- Развяжи, так твою! - Ну, чего ты? - гладит его жесткие волосы Никифор, и Снегирь мало-помалу утихает. Молодость взяла свое, вставать начал. Грустным и смирным сделался: подковыляет к Никифору, сядет рядом и долго смотрит, как тот улы шьет, потом положит ему на плечо забинтованную руку, отвернется. И все молчит, молчит, морщит лоб, будто силится вспомнить о чем-то. Только однажды спросил ни с того ни с сего: - Кто ты такой есть, а? Ничего не ответил Никифор, протянул ему готовые улы, а сам вышел дров наколоть. Когда вернулся - увидел: прохаживается Снегирь в мягких улах, не хромает, рот до ушей растянул - довольный. И лицо у него другое, совсем как у младшего сына, когда тот на побывку из армии приезжал,- простодушное, ласковое. Усмехнулся Никифор: - Что, хорошо, брат? - Нормалитет,- осклабился Снегирь сам себе, как бывало в минуту удачи. Потом вдруг испугался, что неладно ответил, не отблагодарил, поймал Никифорову руку, чуть не целует: - Хорошо, то есть вот как хорошо! Я ведь что? Я ведь не бесчувственный. - Ладно-ладно,- отнял руку Никифор.- Звать-то хоть как тебя? - У меня имен как вшей у паршивого: Семен и Гришка, Афонька, даже Элементом один материн хахаль окрестил.- Сник Снегирь, потемнел лицом, желваки заиграли, глаза узкими щелочками сделались. Не посмотрел, просверлил: - Ты что, сволочь, выпытывать меня вздумал? Никифор пожал плечами, начал в печку подкладывать. Жаром пышет печка, углями постреливает - один в ус угодил, чтоб его! Прикрыл дверцу Никифор, только тогда посмотрел на своего постояльца нежданного. А у того глаза красные, вот-вот заплачет. Стоит обмякший, губы кривит. - Сосунок,- сплюнул Никифор, добыл откуда-то бутылку налил в кружку: - На-ка, хлебни, может, полегчает. Снегирь захватил кружку, начал пить. Неловко держать ему кружку, стучит зубами о край, морщится. Пока пил, Никифор успел стол накрыть: горку хлеба нарезал, мясо из котелка вывалил на доску. Садись, мол, закусывай. Потом себе налил из той же поллитровки толику для компании. Сели, есть начали. Хотя и плескал, когда пил, видно, и внутрь порядочно угодило - захмелел Снегирь, про жизнь начал рассказывать, тихо так, будто прощения просил. Слушал Никифор, головой покачал: открывался ему совершенно другой мир со своими правилами и законами, представился ему Филька Шалый, без лица, без фамилии, просто одни руки - не человек, а вроде капкан волчий. - Философию имел, убеждения: не работай по способности, ублажай себя по потребности,- скрипнул зубами Снегирь, уронил голову на руки и так сидел тихо. Потом сказал: - Что со мной делать будешь? В сельсовет донесешь? - Нет, парень, одного раза хватит, отсюда сам пойдешь,- отшутился Никифор, собрал со стола хлебные крошки, в рот бросил. Понял Снегирь: не отпустит, отведет куда следует. Хмель прошел, будто и не было, только виду не подал Снегирь, когда поднимался из-за стола, качнулся - поддержал его Никифор, уложил, а сам рядом присел: чувствовал, что не хмель свалил парня - болезнь. Попробуй разберись в ней сразу. Говорил: - На воздух тебе надо, вольным духом подышать, а то сидишь сыч - сычом да сердце себе травишь попусту. Погоди, вот подживут руки, мы с тобой дрова пилить будем. Очень это полезная работа. Пила зиг - зук, зиг - зук, а из-под нее опилки сыплются, желтые на белый снег. Возьмешь в горсть - навроде теплых отрубей. Недоверчиво слушал Снегирь, думал: "Зачем ему надо, чтобы руки у меня зажили? Если вести надумал, то самое время сейчас, а после - попробуй!". Нетронутый заиндевелый лес охватил Никифорову избушку с трех сторон, со стороны сенцев отступил чуточку, оставив на поляне белокорую березу. Вышел Снегирь, березу увидел, хорошо ему стало. Смотрит на нее и не поймет, отчего ему так хорошо сделалось. Вчера и вот сегодня. Давно такого не испытывал, огрубела душа, покрылась коркой за годы настороженной жизни. Подумаешь, велика ли радость - береза, а вот поди ж ты, действует. Может, это оттого, что здоровым почувствовал себя Снегирь? Руки зажили, вчера с Никифором дрова пилили, благодать... Вот он у двери возится. Чудак, на замок бы надо, а он - клинышком! - Пошли,- хлопнул его по плечу Никифор и ремень двустволки поправил. Только бровью повел, ничего не сказал Снегирь, сунул руки в карманы, побрел. Будто ничего такого не было: не было задушевных разговоров по вечерам, не было настоев из целебных трав, которыми отпаивал его Никифор. Все стало на свои места: поймали, ведут теперь. Идет Снегирь, под ноги смотрит, не замечает красоты зимнего леса, мысли нехорошие в голове. А Никифор не подозревает ни о чем таком, буравит валенками рассыпчатый снег, природой любуется. Белка стрельнула с дерева на дерево и пошла считать ветки. Никифор задрал голову, чуть шапка не свалилась, гукнул вслед, засмеялся. Посыпались снежинки, заискрились - и опять спокойно кругом, лишь изредка сорвется с дерева снежная шапка или рябчик из-под ног фуркнет, обдаст лодной пудрой. Пока проморгаешься - а его и след простыл. Поди попробуй, узнай, где снова спрятался-притаился. Может, вон среди тех елочек. А вот и просека, вся как есть заячьими следами промережена, по краю лисья стежка тянется. - Эк подрубила кромку-то! - восхитился Никифор, перешагивая след.- Слышь, как тебя, чего нахохлился? Может, передохнем? - Смахнул с приглянувшегося пенька снег, сел, двустволку между колен зажал. Подошел Снегирь, закурили.- Теперь близко, срежем орешник, а там и речка,- говорил Никифор, попыхивая трубкой. - Ты вот что, парень, не трави себе душу. Самое, можно сказать, последнее это дело, или забыл, о чем толковали? Придем честь честью, сначала ко мне: зять у меня - умнейшая голова. Посоветует, как и что, а потом, значит, в сельсовет пойдешь и объявишься. Повинную голову меч не сечет. - А я, может, не желаю? Вот сейчас встану и в другую сторону. Стрелять будешь? - Глаза щелочками, желваки заходили.- Стреляй, не бойся - ничего тебе не сделают, объяснишь потом: при попытке к бегству. Похвалят. - Еще что скажешь? - пыхнул дымом Никифор, ружье на колени положил. Просто так положил, без всякой мысли, а у Снегиря губы скривило, по-своему понял. Больше не садились, почти до самой реки дошли, слова не сказали. Идут, каждый о своем думает. А природа кругом такая - петь надо! И нет ей никакого дела до человеческих драм-трагедий: к чему ей эти драмы-трагедии? Живи! Радуйся! Чего лучше придумаешь? Эх люди-люди, сечь вас некому! Никифор - старый таежник, прежде чем ступить, присмотрится. Глядь, а Снегирь уже через речку топает, дурь свою непотребную в душе оглаживает, жить не хочет. - Постой ты, леший, полынья там! Не слышит Снегирь, не хочет слышать. Улы у него мягкие, сам легкий, не идет - летит. - А, черт,- насунул шапку поглубже Никифор, следом двинулся. Ничего вроде ледок, зря испугался: прихватило-таки морозцем излучинку. Дальше смело пошел, осторожность забыл, да и как не забыть, если молодость впереди топает? Вон он, черт, уже на взлобок взбежал, не остановился - дальше идет. Упрямый, шельма, если такого на путь наставить... Засмотрелся на парня старый и ухнул по колено в воду. Пока на берег выбрался - руки по локоть вымочил. Вылез, словно бы курица мокрая, ругается на чем свет стоит, всех святителей перебрал с чертями вместе, а Снегирь переломился пополам и аж икает, совсем зашелся в хохоте. Смешно ему, вишь, что опытный лесовик про незамерзший родник совсем забыл, чуть было не утоп у самого берега. - Ну чего ты ржешь, дьявол? Помоги, что ль! - возмутился Никифор, ружьйшко скинул с плеча: - Подержи. А сам сел на снег и начал переобуваться. Воду из валенок вылил, портянки выжал. Ничего вроде, идти можно. Снова пошли. Только теперь впереди Никифор, руки в рукава засунул, а сзади - Снегирь с ружьем. Смешно Снегирю: семенит впереди Никифор в мокрых валенках, нахохлился, а валенки у него от пяток до самого верха дратвой через край стянуты. Душит смех Снегиря, поймает на мушку ружья беличью шапку - смешно ему Ноздри расширились, курки взвел, как в бреду шепчет; - Шлепнуть - и делу конец - ищи потом Снегиря. Зябко Никифору, об одном думает, как побыстрее до дому добраться, перцовочки хватить да на печь горячую - не то враз какая-нибудь лихоманка прицепится. И невдомек старому, что за спиной у него сама смерть идет. Догнал Снегирь, ружье в руки сует: - Возьми, старик, ну его, еще выстрелит. - С чего бы это, ежели курки спущены? А на дереве ворона: - Кар-карр! Вскинул Снегирь двустволку - и на обе собачки нажал. Не слышал выстрела, увидел, как шлепнулась черная птица, распласталась на белом снегу. Подбежал Никифор, остановился в недоумении: лицо у Снегиря серое и какое-то плоское, лишь закрытые глаза, как два пельмешка, вспучены. Стояли так, потом Снегирь сказал: - Вот.- И ружье протянул. - То-то, дура,- просипел Никифор. Погладил стволы и побледнел запоздало. Потом они пошли быстро. Впереди за холмами засветилось небо: зажглись огни в колхозе "Октябрь". И оттого, что самих огней не было видно, казалось, что это солнце вдруг начало подниматься. "Должно, на вторую улицу ток пустили,- подумал Никифор.- В прошлый раз вроде бы меньше светилось". После долгого молчания Снегирь проговорил: - Как, сказывал, твоя деревня называется? - Малые Выселки, а что? - Не пойду я с тобой дальше. Не с руки мне сейчас. Отсижу свое и приду к тебе вольным гражданином. А ты не жалей о том, что зека отпустил... Не нравится? Вкладывай тогда патроны картечью, веди под ружьем. Плюнул с досады Никифор, переломил двустволку, зарядил: - Будь по-твоему, шагай! 1960г. | |